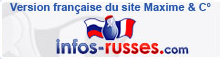Комментарий к закону 1999 года “о государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом”
КОММЕНТАРИЙ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ 99-ФЗ ОТ 24 МАЯ 1999 ГОДА “О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ЗА РУБЕЖОМ”.
Вниманию г-на Островского А.В.
Председателю Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по делам СНГ и связям с соотечественниками,
Члену Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом
Для широкого распространения
и публикации в СМИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
1. В Законе (ст.5 п.2) целью государственной политики РФ в отношении соотечественников за рубежом провозглашается “оказание государственной поддержки и помощи” и “обеспечение прав и свобод человека и гражданина”. Между тем, мы полагаем, что интерес РФ к работе с соотечественниками за рубежом также может быть вызван поиском союзников России и послов русской мысли в зарубежных странах (т.е. политическими и экономическими соображениями).
2. Часто в русском обществе и в СМИ слова “россиянин”, “гражданин России” и “соотечественник” используются как синонимы. Однако, если слова “россиянин” и “гражданин России” можно считать эквивалентными, нам кажется, что слово “соотечественник” имеет особое определение.
3. Для успешной реализации работы с “соотечественниками”, на наш взгляд, необходимо разграничить те категории людей, которые могли бы успешно выполнять ожидаемую от них функцию:
– Прежде всего – сами граждане Российской Федерации, проживающие за рубежом. За пределами России ни у кого, как у самих ее граждан, не может быть столь сильного (потенциального) желания видеть успехи России и участвовать в них. Четкая принадлежность этих людей к российскому государству сказывается не только на их внутреннем состоянии, но и на их взаимоотношениях с внешним миром: их чаще всего за границей воспринимают как иностранцев, т.е. как русских, и отношение к ним местных жителей и властей зависит от того, какое они имеют представление о России.
– Вторая категория – это “соотечественники, не граждане РФ”. Согласно Закону, это – люди, имеющие историческую связь с Россией (бывшие граждане СССР, эмигранты и их потомки…). Однако, в законе ничего не говорится об их отношении к России, ее культуре и политике. То есть, получается, что лица, крайне критически и даже враждебно относящиеся к России, также включены в разряд соотечественников.
– Наконец, в мире есть различные, неоднородные по своему составу, категории людей, которые прямо или косвенно связаны с русской культурой или русским языком. Большинство этих людей сознательно или неосознанно симпатизирует России, радуется её успехам и переживает за её беды, но не считает себя (и часто не является) ни юридически, ни по национальности связанным с Российской Федерацией. Этот аспект совершенно упущен в нынешней редакции комментируемого Закона, но также в других законодательных актах Российской Федерации.
КОММЕНТАРИИ К ЗАКОНУ В СВЕТЕ ЭТИХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАМЕЧАНИЙ:
1. Нынешнее определение понятия “соотечественник за рубежом” неудовлетворительно.
Согласно нынешнему определению, “соотечественником” считается каждый, кто каким-то образом связан с Россией (будь то гражданством, проживанием в прошлом на территории России, родством по прямой восходящей линии с её эмигрантами и т.д.). Формально (ст.3 п.2) за каждым человеком признается право свободно решать быть или не быть ему “соотечественником”, но на практике очевидно, что российские власти, обращаясь к “соотечественникам”, имеют в виду всех, а не только тех, кто сделал сознательный выбор.
В свете вышеизложенного действующее определение “соотечественника за рубежом” можно считать либо слишком широким, либо, наоборот, слишком узким.
а. Нынешнее определение “соотечественника за рубежом” можно считать слишком широким, потому что оно охватывает как a priori близких к России людей – её граждан или искренних друзей, так и де факто тех, кто неоднозначно относится к России и её политике. Например, не каждый попадающий в категорию “соотечественника” потомок старых русских эмигрантов, даже если он сегодня является носителем русского языка и культуры, желает выступать на стороне России и её политики. Также можно привести пример многих выходцев из Советского Союза 70-х и 80-х годов, до сих пор крайне отрицательно относящихся к России, но тем не менее несомненно попадающих под определение “соотечественник”.
Подобная “широта” категории “соотечественников” приводит к тому, что целый ряд людей, даже имеющих все юридические основания считать себя “соотечественниками”, не желают быть причисленными к этой категории, с тем чтобы (по субъективным причинам) не оказаться на равных с людьми, любящими или, наоборот, не любящими Россию, в зависимости от того, кто для них представляет категорию “соотечественников” в месте их проживания.
б. В то же время, если желание российских властей заключается в охвате всего “русского мира”, включая всех носителей русского языка, которые составляют мировое русскоязычное пространство, то нынешнее определение “соотечественника” слишком узкое. Ведь русскоговорящими могут быть люди, не имеющие с Россией никаких родственно-исторических связей (иностранцы, выучившие русский язык в школе), и даже люди, настроенные против российского государства (например, вследствие современных геополитических изменений – часть украинцев, грузин…), но сохранившие положительное отношение к русскому языку и культуре. К этой категории также относятся тысячи выходцев из СССР или даже Российской Федерации, быстро интегрировавшиеся (или находящиеся в процессе ассимиляции) и принявшие гражданство стран их нового проживания (каких много в Германии, Израиле, США…).
Важно отметить, что представители этой категории часто отказываются от “навязываемого” им со стороны русских ярлыка “российского соотечественника”, но при этом окружающие их жители иностранных государств воспринимают их русскими, в силу используемого ими русского языка. Конечно, определение “соотечественник” не уместно для этой категории людей. Правильнее было бы называть русскоязычных людей – русофонами, которые составляют мир русофонии.
в. Следует, что понятие “соотечественник” должно находиться где-то между понятиями “гражданин” и “русофон” и иметь особое юридическое толкование. Мы бы обозначили его следующим образом: соотечественник – это русофон, который, не будучи гражданином России, сочувствует судьбе этой страны.
Мы считаем, что с точки зрения культурных связей и исторического наследия России есть смысл выделить такую категорию людей. Для них следовало бы предусмотреть, например, упрощенный прием в российское гражданство или же для тех, кто в силу закона или убеждений не может/желает получить полноценное гражданство РФ, разработать институт почетного гражданства России с ограниченными правами и обязанностями (предусматривающий, например, безвизовый въезд на территорию России, а также, возможно, другие льготы). Условиями для включения людей в эту категорию могли бы стать: проявление личной инициативы со стороны заинтересованного лица (исходя из принципа, что человек, не уважающий Россию, не станет обращаться к её административным органам с такой просьбой), общественная инициатива граждан или других “соотечественников”, инициатива российского государства, в случае признания за некоторыми лицами особых заслуг перед Россией или россиянами. В каждом случае желателен индивидуальный подход.
Однако, нам кажется нежелательной выдача этим лицам предусмотренного Законом “документа (свидетельства) соотечественника” (ст. 3 пп. 2 и 3). Выдача Российской Федерацией такого документа, тем более в широком масштабе, гражданам иных государств могла бы привести к созданию новой, юридически плохо обоснованной и не признанной мировой общественностью категории субъектов международного права. Выдача такого документа “соотечественникам, не гражданам”, проживающим за границей, вместо того, чтобы способствовать их интеграции в стране проживания (и соответственно “мирному укоренению” в ней русского языка), может привести к раздуванию межнациональной розни и вызвать неприязнь местных жителей и властей не только к российскому государству, в частности, но и ко всем носителям русского языка и к самому русскому языку, в целом (что особенно верно в некоторых странах ближнего зарубежья).
Итак, если следовать нашему предложению, то людей, составляющих русскоязычный мир нужно характеризовать не одним, обширным и расплывчатым словом “соотечественник”, а тремя отдельными словами, имеющими четкое определение:
– “Гражданин”,
– “Соотечественник” (т.е. русскоязычный человек – русофон, не имеющий гражданства РФ но сочувствующий судьбе России или почетный гражданин),
– “Русофон”.
2. Нынешний рабочий подход к “соотечественникам” мало удовлетворительный и не перспективный
а. Граждане – не просто “соотечественники, проживающие за рубежом”, а полноправные граждане России.
Практика показывает, что на территории РФ к своим гражданам относятся, как к полноправным гражданам, но в случае их переезда за пределы российских границ очень часто отношение к ним меняется. Получается, что переехавший за границу гражданин России, с точки зрения российских властей, приравнивается к любым другим категориям “друзей России”, и отличается от них лишь тем, что в силу своего гражданства он получает право участвовать в выборах… Нам кажется, что Россией должна быть разработана четкая и активная политика поддержки прежде всего своих граждан, проживающих за рубежом.
Такая политика, более узкая, чем политика поддержки “соотечественников”, но более целенаправленная, позволит избежать чрезмерную трату финансовых средств на мало эффективные мероприятия, и в то же время очень быстро принесет плоды.
Средства, выделяемые в настоящее время и используемые по разным направлениям, можно было бы, например, сконцентрировать на поддержке консульских служб с тем чтобы потребности любого гражданина России могли удовлетворяться успешно и в кратчайшие сроки. Для этого можно было бы увеличить число сотрудников в МИДе и консульствах и разработать систематические консульские и посольские программы “сопровождения” граждан, находящихся за границей на ПМЖ. Этими программами Россия оказывала бы своим гражданам внимание (например: приглашениями на приемы, поздравительными открытками с праздниками…) и помощь (в частности, предприятиям и общественным организациям, создаваемым гражданами РФ за рубежом). К тому же, необходимо было бы пересмотреть многие административные процедуры, значительно осложняющие жизнь граждан за рубежом (например, автоматическое лишение российской регистрации граждан, вставших (за деньги!) на учёт в своем консульстве).
Наконец, чтобы приблизить российскую диаспору к своему Отечеству, России стоило бы, основываясь на опыте других стран с большими диаспорами, изучить возможность предоставления своим гражданам права иметь избираемых представителей при российской администрации, а также в российских законодательных органах. Например, мало того что согласно Конституции Французской Республики (ст.24), “Французы, проживающие за рубежом представлены в Сенате” (таких французов насчитывается более 2 миллионов), с 2004 года они также получили возможность избирать “Ассамблею Французов за рубежом”. По имеющимся данным, в Португалии действуют аналогичные структуры.
Улучшение отношения к своим гражданам принесет России значительно большую пользу, чем развитие каких-либо программ в пользу всевозможных “соотечественников”. Часто граждане России, замечая внимание, которое за границей оказывается не им, а “соотечественникам, не гражданам”, чувствуют себя ущемленными в своих правах. В то время как граждане, чувствующие за собой поддержку страны и уважение к себе, стали бы гордиться Отечеством и хвалить его перед их иностранными знакомыми.
Но на сегодняшний день, к сожалению, легко представить себе истинное мнение о России ее граждан, выходящих из российского консульства, в котором им только что объяснили, что загранпаспорт им переделать, конечно, готовы но это займет… полтора года, и при этом им придется выложить за услугу сумму, значительно превышающую ту, которую они заплатили бы в России… Этого примера достаточно, чтобы охарактеризовать чувство второсортности, ощущаемое русскими гражданами, сталкивающимися с такой дискриминацией.
б. Политика России в отношении “соотечественников, не граждан РФ” и “русофонов” в целом не должна быть направлена на контроль над миром русофонии, а должна способствовать саморазвитию русскоязычного пространства.
Можно с уверенностью сказать, что большинство развиваемых программ по работе с “соотечественниками” включает идею прямого или косвенного воздействия на них. Такой подход, вместо того, чтобы укреплять связи “русофонов” с Россией, часто вызывает опасения (даже самих российских граждан). Как следствие – они стараются избегать связей с соответствующими российскими структурами, либо связываются с ними исключительно в целях прагматического использования предлагаемых субсидий…
Примером такой недальновидной политики могут служить Координационные советы, созданные без участия русскоязычной диаспоры, или с участием лишь избранных российским руководством некоторых представителей этой диаспоры. В связи с этим подавляющее большинство членов русской диаспоры, в какой бы то ни было стране, чаще всего просто не знает о существовании такой структуры, а если и слышало, то не считает, что она представляет их интересы. Подобные советы не имеют ни юридического, ни морального права представлять интересы диаспоры, поскольку они не являются выборными органами. Впрочем, это не мешает подобным “руководителям” Координационных советов открыто говорить от имени всей диаспоры… вызывая смущение последней. “Рука Москвы”, наблюдаемая в работе с “соотечественниками”, отталкивает от России многих русскоязычных жителей зарубежья.
Вместо этого Россией могли бы разрабатываться программы поддержки не каких-нибудь отдельных акций, а конкретных структур (школ, кружков, СМИ, ассоциаций…) “соотечественников, не граждан” или “русофонов”, деятельность которых направлена на преподавание/сохранение русского языка и на распространение культур, передаваемых русским языком; но без вмешательства в деятельность этих структур. Финансирование таких структур могло бы, например, реализовываться по проверенной практике западных стран – посредством неправительственных организаций.
Именно “независимость” и “местный характер” этих организаций (формально – не российских, а подчиняющихся законам стран их месторасположения и состоящих из “местных” граждан) позволяет им авторитетно отстаивать статус русского языка в окружающем их пространстве. Наоборот, явное или предполагаемое влияние из Москвы делает эти организации подозрительными для местных властей, которые причисляют их к иностранным организациям, пытающимся извне влиять на их внутреннюю политику.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что попытка российских властей расширить свое влияние путем развития связей с “соотечественниками” достигнута лишь частично.
1. Российские граждане, проживающие за границей, часто настроены против своей страны, в частности, из-за неудовлетворительного уровня обслуживания, оказываемого им в консульских отделениях и из-за российской бюрократии.
2. Люди, лояльно относящиеся к России и ее политике, не желают быть причислены к одной категории “соотечественников” с теми, кто враждебно воспринимает все российское.
3. Часто цитируемые цифры числа “соотечественников” в мире значительно завышены, ибо владение русским языком еще не есть уважение к России и её политике. “Соотечественников” в мире – значительно меньше, чем “русофонов”.
4. Категория “соотечественников” (в нашем определении) со временем обречена: через поколение или два большинство детей, родившихся за границей, русскими себя чувствовать уже не будут, даже если при этом они продолжат общаться на русском языке и уважать русскую культуру.
5. Нередко звучащие со стороны официальных российских представителей заявления о том, что “соотечественники” должны защищать интересы России за рубежом, а также предпринимаемые попытки взять под контроль русскоязычную диаспору – контрпродуктивны и часто ставят проживающих вне России россиян и “друзей России” в неловкое положение по отношению к местным властям страны проживания.
6. Значительная часть русскоязычного мира, ввиду вышеизложенного, сама собой отпадает от категории “соотечественников” и соответственно “теряется” для России, в то время как она могла бы служить её интересам.
Поэтому, мы рекомендуем прежде всего сконцентрировать нынешнюю политику поддержки “соотечественников” на российских гражданах, проживающих за рубежом, а во вторую очередь способствовать саморазвитию международного русскоязычного пространства русофонии.
Максим Жедилягин
Президент ассоциации “Максим-энд-Ко”:
“обо всем русском в Париже и Франции”
http://www.maxime-and-co.com
Член Правления Союза русофонов Франции
http://www.russophonie.org